
Почему по философии стоит неявка - без понятия (( У меня перезачет на отлично должен быть ((

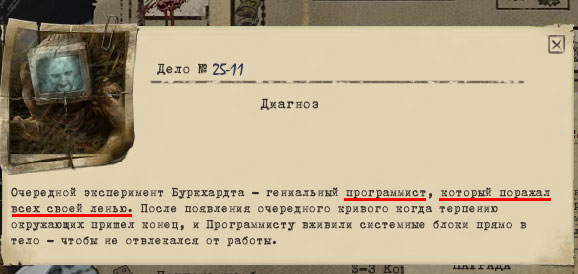
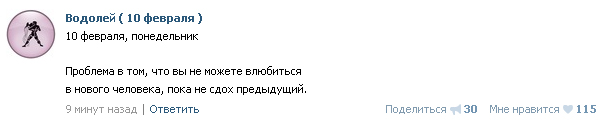





 А у меня практически ничего не сделано!
А у меня практически ничего не сделано! 









 читать дальше
читать дальше
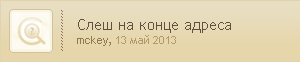
 Этот исторический факт мог бы и дальше быть мне неизвестен, если бы однажды на глаза не попалась картина Андрея Иванова "Подвиг молодого киевлянина" (1810), создававшаяся в период подъема патриотического движения в российском обществе. Кому как, а по мне образ храброго гонца из Киева времен Древнерусского Государства ну никак не вяжется с образом упитанного римского юноши, слегка прикрывающего наготу алой материей
Этот исторический факт мог бы и дальше быть мне неизвестен, если бы однажды на глаза не попалась картина Андрея Иванова "Подвиг молодого киевлянина" (1810), создававшаяся в период подъема патриотического движения в российском обществе. Кому как, а по мне образ храброго гонца из Киева времен Древнерусского Государства ну никак не вяжется с образом упитанного римского юноши, слегка прикрывающего наготу алой материей  Хотя Иванов и провел аналогию с похожей историей, которая случилась в древнем Риме, когда молодой римлянин так же спас город от нашествия галлов.
Хотя Иванов и провел аналогию с похожей историей, которая случилась в древнем Риме, когда молодой римлянин так же спас город от нашествия галлов.